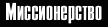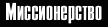Смерть явилась К.Н. Леонтьеву в скотском образе "среднего человека". В.В.
Розанов писал о Леонтьеве: "Он ушел в монастырь от смерти, видя, что в данную
эпоху европейского и нашего развития всюду торжествует смерть, разложение,
какой-то отвратительный гнилостный процесс человека, умирающего "в пневмонии"
(его любимый пример), и задыхающегося в мокроте, которую неодолимо и неудержимо
выделяют его легкие". Золотая середина уже невозможна, а возможна серая
середина: космополитический сюртучок и интернациональный пиджачок. Личность
должна выламываться и проламываться через все барьеры и заграждения, но в этой
серой середине личность затухает и царит бесцветная гомогенная масса. В начале
30-х годов ХХ века тема усредненного человека пронзительно зазвучит у Хосе
Ортега-и-Гассета. Он напишет, как масса сминает все лучшее, непохожее,
недюжинное и личностное. Марксизм и фашизм исторически невыразительны, ибо они -
творение заурядностей. Средний человек гордится государством, безликим, как и он
сам, и знает, что именно оно гарантирует ему жизнь, удушив всякую социальную
самодеятельность. Козье племя, быдло харьковских рабочих окраин так ужаснули
Эдуарда Лимонова в детстве и юности, что он решил податься "в жиды, в пидорасы,
в поэты, лишь бы не нравиться вам" (М.Немиров). Однообразие лиц, учреждений,
мод, архитектуры городов, культурно-поведенческих стереотипов в конце ХХ века
стали настолько привычными, что способны вызвать лишь добрую улыбку Д.А.
Пригова, написавшего смешную статью "Визит русского гения в Японию", где этот
визит становится идентичен визиту в любой другой мегаполис.
Видится, что К.Н. Леонтьев презирал все, что не оттопыривается, никогда не
садился посередине, когда его спрашивали "Как дела?", никогда не отвечал: "Да
так, средне", в школе плакал, когда просили определить среднее арифметическое,
среды, как дня недели, для него не существовало - он называл его "второй
вторник". Он даже песню придумал "Моя смерть стоит посередине", да потом ее
позабыл: слишком уж она показалась отвратительной. Что может противостоять
срединности? Леонтьев это, противостоящее смерти и середине, определил как
"византизм".
В то время отзываться с похвалой о византизме - это была настоящая дерзость. Еще
Чаадаев заклеймил византизм, как "дух рабства", а Герцен писал, что "византизм -
это старость, усталость, безропотная покорность агонии", врагом его было
"византизированно-немецкое самодержавие". Для либеральной публицистики XIX века
и "Византия", и "византизм" - все это были бранные слова, синонимы азиатчины,
косности, застоя, тупости, рабской покорности, азиатского коварства и лицемерия.
Да и Владимир Соловьев, признаться, отказывался видеть в Византии хоть какие-то
следы высшего духа. Леонтьев же свято верил в то, что Православие,
греко-византийцами развитое, помимо сферы личной веры, имеет для России и
культурно-государственное значение - просветительное, обособляющее и
утверждающее. Отчего, однако, появляется этот византизм, а не пресловутый тезис
о "православии, самодержавии и народности"? В данный термин Леонтьев вкладывал
все свое неприятие "розового", "сочиненного" христианства у Достоевского,
достойного, как считал Константин Николаевич, Беранже и Жорж Занд. Антитезу ему
он видел в современном ему монашеском быте и укладе; переполнявший Леонтьева
сильнейший страх ( "христианству мы должны помогать из трансцендентного эгоизма
по страху загробного суда") делал его веру какой-то католической
пессимистической верой, отвергающей все земное как скверное, лживое и
недолговечное. Страх, переполнявший Леонтьева, был одновременно страхом радости,
и он решительно "не понимал, что можно радоваться о Господе" (прот. Г.
Флоровский). Что же касается монашеского быта, то В.В. Розанов, оправдывая
"Братьев Карамазовых" от нападок Леонтьева, проницательно написал, что, может,
монашеству XIX века эта книга не соответствует, зато соответствует монашеству
IV-IX веков.
Византизм, по Леонтьеву, ведет к "цветущей сложности". Он считал, что любой
культурно-исторический организм проходит три стадии:
а) первичной простоты, первоначального младенческого состояния
несформированности внутренней структуры и нерасчлененной целостности;
б) цветущей сложности;
в) вторичного смесительного упрощения, стадии предсмертного существования, когда
выравниваются индивидуальные и социально-политические различия и сглаживаются
все крайности, распадаются структурные связи и происходит смесительное
уравнивание людей; за этой стадией следуют уже распад и гибель.
Когда Константин Николаевич смотрел на Запад, где в XIX веке на повестке дня
стоял лозунг равенства всех и вся - лиц, наций, сословий, полов - то в этом он
усматривал признаки кризиса, болезненного упрощения, впадения в однообразие. Он
всей душой стремился удержать Россию от усреднения, от эгалитарно-либерального
упрощения. Идеал "цветущей сложности" мыслился как противоположный
идиотски-упрощенным либеральным представлениям о линейном прогрессе,
обеспеченном всесилием человеческого разума.
За образом "цветущей сложности" видится Древо Жизни, ветки которого гнутся от
плодов и цветов, гобзование щедрот, многоплодие и пестрое многообразие
культурных, политических, национальных и социальных форм. Однако, недаром В.В.
Розанов писал о "языческой чувственности" К.Н. Леонтьева: мир являет свою
сложность и свое многоцветие взгляду естествоиспытателя и врача, светлый лик
природности заслоняет собой "темный лик" церковности; если уж кто приходит к
церковности, то, по Леонтьеву, должен отворачиваться от цветущего и светлого
природного лика. Про языческую чувственность - это, конечно, сильно сказано; тут
другое: медицинский натурализм или романтический натурализм с бесстрастием
естественных наук; перенесение свойств природных объектов на общество; не
ожидание грядущего преображения мира, а завороженность витальностью natura
naturans. Здесь уже ничто не зависит от воли и характера людей: не
соработничество с Богом и даже не взаимодействие с природой, а некий
"естественный ход истории". В письме Розанову Леонтьев говорит про расхождение
мерила эстетического и христианского; он боится, что христианская проповедь
должна уменьшить жизненное разнообразие, что и христианская проповедь, и
европейский прогресс одинаково ведут к потускнению, к блеклости, к прекращению
"истории жизни".
Вокруг возникает, булькает, искрится постмодернистская пестрота и сложность. Но
на самом ли деле цветет вся эта сложность или же это мелькание
калейдоскопических картинок перед глазами?
Христос выше сложности и простоты, цветения и умирания. Но без него нет ни
цветущей сложности, ни простоты. Нет и бессмертия.
Владимир Богомяков