|
 В России прошло турне православного миссионера, профессора богословия отца Андрея Кураева и рок-музыканта Константина Кинчева. Андрей Кураев и Константин Кинчев посетили города Курган, Челябинск и Екатеринбург. Перед началом каждого концерта лидер группы “Алиса” призывал своих поклонников на встречу с отцом Андреем Кураевым. В России прошло турне православного миссионера, профессора богословия отца Андрея Кураева и рок-музыканта Константина Кинчева. Андрей Кураев и Константин Кинчев посетили города Курган, Челябинск и Екатеринбург. Перед началом каждого концерта лидер группы “Алиса” призывал своих поклонников на встречу с отцом Андреем Кураевым.
Сами Константин Кинчев и Андрей Кураев назвали это “битвой за молодежь”. “Обращение Кинчева в православие и его свидетельство о нашей вере значат в сто раз больше, чем сто моих лекций”, - сказал в одном из интервью Андрей Кураев, преподаватель Свято-Тихоновского Богословского института при МГУ.
Он пояснил, что “когда люди видят человека в рясе, они полагают, что это просто его работа, что “попы на хлеб зарабатывают”. А мнение человека, который принадлежит к миру рок-музыки и, на первый взгляд, далек от Церкви, значит для тысяч молодых ребят, слушающих эту музыку, намного больше”.
Андрей Кураев написал также предисловие к новому альбому группы “Алиса”, в котором сказано, что “песни Кинчева - это протест против потребительства, материализма и банального примитивизма”. “Христианство не должно быть сладеньким, - пишет Андрей Кураев. - В нем есть место и Божию гневу. А какая музыка лучше, чем рок, способна это выразить?”
Союз православных граждан намерен обратиться к Патриарху с просьбой присудить К.Кинчеву церковную награду за миссионерские труды.
О миссионерстве К.Кинчева А.Кураев говорил в своем выступлении в Ярославском университете.
Рок-кумир, лидер группы “Алиса” Константин Кинчев ввел православную тематику в свое творчество. Рок-идол подростков 80-х, автор знаменитой песни о поколении, “которое молчит по углам”, Кинчев так отвечает на вопрос о своей религиозной эволюции: “Я никогда не был атеистом. Я был богоискателем, отчасти язычником. И даже, наверное, (прости, Господи), сатанистом в том виде, в каком сказано в 8-й утренней молитве: служил дьяволу, сам того не зная. Если человек говорит: “Я хороший, но в Бога не верю”, - это значит, что он уже служит сатане. Слава Богу, чередой чудес, замеченных мной, Господь меня привел в храм” («Известия», 28 октября).
Это публичное покаяние Кинчева не осталось незамеченным и безнаказанным со стороны “либеральной прессы”. Один пример: “Во Дворце спорта “Лужники” свое двадцатилетие отпраздновала группа “Алиса”. Весь концерт, от новой песни “Родина” до хрестоматийной “Мы вместе”, стал иллюстрацией того, какие плоды может принести правильное военно-патриотическое воспитание молодежи в сочетании с тяжелыми гитарами и культом здорового тела. Музыка у “Алисы” сопровождает рифмованные проповеди, военные марши и стихотворные памфлеты, направленные против массовой культуры. Лирические герои поэзии Кинчева - воин, инок и шут. В жизни же воины, а точнее, военные флотоводцы помогают “Алисе” снять клип “Небо славян” на борту боевого корабля ВМФ. Дьякон Андрей Кураев осуществляет бесперебойную связь с Высшим Продюсером и следит за тем, чтобы паства колбасилась правильно, ну а в роли шута - по-прежнему сам Константин Кинчев” ("Коммерсантъ", 27 октября). Газеты и журналы полны подобных материалов. Интервью превращаются в расстрелы: каждый вопрос - как выстрел или плевок.
Кинчев знает, что свою веру ему придется нести сквозь хулу “общечеловеков”.
Знает он и то, что соединившись с Православием, он изрядно проредил ряды своих почитателей. Я как-то спросил Кинчева, насколько упала его популярность после того, как он обратился к церковной тематике. Он сказал, что если раньше “Алиса” собирала стадионы, то сейчас - максимум тысячные залы домов культуры. А те фанаты, кого интересует рок-музыка в чистом виде и кому неважно содержание, ушли к “Королю и Шуту”. Кроме того, Кинчев отказался выступать в периоды церковных постов (а это более чем половина года). И то, и другое означает, что человек несет прямые финансовые потери по мотивам своей веры. Можно представить, как непросто было ему объяснить необходимость этих жертв членам своей группы.
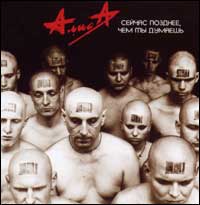 Но хуже всего то, что критика идет и со стороны православных людей. Людмила Ильюнина пишет: “Известный богослов и публицист диакон Андрей Кураев на пресс-конференции, посвященной 20-летию группы “Алиса” и выходу нового альбома “Сейчас позднее, чем ты думаешь”, как бы отвечая на естественные сомнения в православности того, что делает на сцене Кинчев, называет это юродством. Но юродивые не поклонение фанатов получали, а побои, насмешки и издевательства, и ради этого-то они и становились “мнимыми безумными”, обретая самый верный способ борьбы с гордостью, присущей всякому человеку. Разве Кинчев согласится назвать себя сумасшедшим, психом? Нет, не красивым словом “юродивый или шут, или паяц”, а именно ненормальным, в которого на сцену могут полететь и гнилые помидоры, и оскорбления, а не цветы и восторги фанатов? Если он по совести готов сказать, что может все это принять, и что не почести и юбилеи 20-летние ему нужны, и не шум в СМИ, то тогда он имеет право называться юродивым”.
Но хуже всего то, что критика идет и со стороны православных людей. Людмила Ильюнина пишет: “Известный богослов и публицист диакон Андрей Кураев на пресс-конференции, посвященной 20-летию группы “Алиса” и выходу нового альбома “Сейчас позднее, чем ты думаешь”, как бы отвечая на естественные сомнения в православности того, что делает на сцене Кинчев, называет это юродством. Но юродивые не поклонение фанатов получали, а побои, насмешки и издевательства, и ради этого-то они и становились “мнимыми безумными”, обретая самый верный способ борьбы с гордостью, присущей всякому человеку. Разве Кинчев согласится назвать себя сумасшедшим, психом? Нет, не красивым словом “юродивый или шут, или паяц”, а именно ненормальным, в которого на сцену могут полететь и гнилые помидоры, и оскорбления, а не цветы и восторги фанатов? Если он по совести готов сказать, что может все это принять, и что не почести и юбилеи 20-летние ему нужны, и не шум в СМИ, то тогда он имеет право называться юродивым”.
Во-первых, ни один юродивый сам себя юродивым не провозглашал и не нес перед собой табличку с соответствующей надписью. Единственно, кем себя Кинчев называет сам: “Я - рядовой ополченец Русской Православной Церкви. Все, что Церковь считает правильным, и я считаю абсолютно верным” («Известия», 28 октября).
Впрочем, к этим его словам надо делать разъяснение. Православие Кинчева отнюдь не воинственно. Каждый раз, когда мне приходится слышать или читать его интервью, меня поражает его предельная сдержанность: никаких призывов, никакого желания “организовать” или “заклеймить”, подчеркивание, что это его сугубо личный выбор, который он совсем не намерен навязывать всем окружающим. Журналистам хочется штампов, хочется подверстать его в какую-то рубрику - в комиссары, замполиты, неофитские агитаторы. А он говорит: “Я проповедником себя не считаю и не считал никогда. Просто некоторые люди думают так же, как я. И меня это радует”. Кстати, это ведь тоже очень трудно: свидетельствовать о своей вере и не становиться в позу проповедника. В “армии Алисы” быть маршалом, а в Церкви - рядовым.
Это я говорю, что Кинчев - современный юродивый, а не он сам. Юродивый - не значит сумасшедший или бомж. Юродивый - человек, который выламывается из привычных социальных стандартов поведения ради того, чтобы обнажить перед людьми слишком затертую и привычную истину.
Кинчев - юродивый не среди христиан. Он юродствует среди рокеров (которые, в свою очередь, юродствуют среди обывателей). Легко протестовать против далекой власти (которая, скорее всего, и не знает о твоем протесте и не снизойдет до мести). Труднее идти против мнения близких людей, выступить против привычек своей компании. Кинчев, отказывающийся от алкоголя и мата, сообразующий свое творчество со своей ортодоксальной верой, оказывается пловцом против течения.
Знает ли Кинчев, что его работа вызывает критику не только со стороны либералов, но и со стороны церковных людей? Конечно, знает - ведь он не ребенок и не неофит. Он уже 10 лет в Церкви. Он знает, как легко у нас громоздятся подозрения и осуждения и как трудно бывает их развеять. Значит, и на эту боль он согласен ради того, чтобы обратиться со словом веры к тем ребятам, которые никогда это слово не услышали бы из уст священника.
Есть ли поводы для критики тех слов, что Кинчев говорит со сцены? Нет, Людмила Ильюнина сама признает, что “он все правильно говорит, никакого смешения нет. И вообще он настоящий поэт, любящий Россию и ее веру”.
 Значит - в главном нет поводов для нападки на своего единоверца. За что же тогда “наверное хороший человек и при том церковно верующий раб Божий Константин” избирается объектом публичной критики? Значит - в главном нет поводов для нападки на своего единоверца. За что же тогда “наверное хороший человек и при том церковно верующий раб Божий Константин” избирается объектом публичной критики?
Во-первых, он обвиняется в том, на концерте из-за “плохой” роковой музыки трудно разобрать “хорошие” слова его песен: “Кинчев оправдывает себя тем, что молодежь не будет слушать ничего, кроме рока, потому важно дать им правильные слова, но в таком обрамлении, к которому они привыкли. Не лукавство ли это? Ведь на концертах, подобных лужниковскому, слова всегда имеют второстепенное значение (да их почти и не слышно), а главное - общая атмосфера зала, которая создается прежде всего шумовыми и световыми эффектами, и в “православном роке” они такие же, как и в самом неправославном”.
Вот сразу видно, что Людмила Ильюнина не была на том концерте, который так возмущенно описывает. Дело в том, что алисоманы наизусть знают песни и стихи своего кумира - даже прежде премьеры нового диска (поскольку на концертах они начинают звучать раньше, чем появляется тираж нового диска). Для меня это было как раз радостной неожиданностью: видеть, как сотни молодых ребят вместе с Кинчевым поют такие слова, для которых не находится места в демократическом телеэфире...
Во-вторых, Ильюнина возмущена тем, что “с его уст вместе с молитвами слетают “крепкие словечки””. Это неправда: ни в жизни, ни на сцене Кинчев не матерится. Самое крепкое его “словечко” - “грязь”.
В-третьих, возмущение критикессы вызвали “Голый торс, руки, разрисованные татуировками и короткие шорты. Но главное, о чем автор “Коммерсанта” умолчал: в этот “сценический костюм” входит нарочито большой и блестящий нательный крест. А за спиной поющего вспыхивают пятиконечные звезды, Андреевский флаг с крестом, руки “фанатов”, поднятые в сатанинском жесте. И тут хочется сказать: “стоп”. Даже описывать все увиденное не хочется”.
Впервые вижу, чтобы один православный человек попенял другому православному человеку за то, что тот не снял нательный крест. Никакого “сценического” креста у Кинчева нет. Это обычный нательный крестик, который на нём постоянно, и крестик этот ничуть не выдается ни по украшениям, ни по размерам. Появление на экранах пятиконечных звезд вполне сюжетно оправданно - потому что Кинчев поет об антихристовой грязи, затопляющей всё. Пальцы, изображающие рога, изображают именно и только рога, а не сатану. Мне как диакону на каждом Всенощном бдении приходится возносить молитву: “Возвыси рог христиан православных”. Рог - это просто знак силы. Силен же не только сатана. Гораздо сильнее Бог и Его Церковь. Поэтому так часто упоминается рог в книгах Священного Писания - от Пятикнижия (“благословение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих; крепость его как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола” - Втор. 33, 16-17) до Апокалипсиса (Откр. 5,6). Кинчев же поясняет своим фанатам, что пальцы, сложенные в рога, должны ими пониматься как удар по сатане, как отпор греху.
 “Голый торс, руки, разрисованные татуировками и короткие шорты”. Может ли проповедник быть обнаженным? В истории христианства известен голый миссионер: пресвитер Юлиан, поехавший с миссией в Эфиопию, где из-за невыносимой жары с 9 утра до 4 часов дня вел свои беседы с язычниками нагим, сидя в пещере по шею в воде... А в итоге - “обучил и крестил царя, его вельмож и много народа с ними” (Иванов С. А. Византийское миссионерство. М., 2003, с. 100). Нагим ходил по московским морозам Василий Блаженный. Так что с “голым торсом” Кинчев стоял отнюдь не ради своего удовольствия. Работа у него такая.
“Голый торс, руки, разрисованные татуировками и короткие шорты”. Может ли проповедник быть обнаженным? В истории христианства известен голый миссионер: пресвитер Юлиан, поехавший с миссией в Эфиопию, где из-за невыносимой жары с 9 утра до 4 часов дня вел свои беседы с язычниками нагим, сидя в пещере по шею в воде... А в итоге - “обучил и крестил царя, его вельмож и много народа с ними” (Иванов С. А. Византийское миссионерство. М., 2003, с. 100). Нагим ходил по московским морозам Василий Блаженный. Так что с “голым торсом” Кинчев стоял отнюдь не ради своего удовольствия. Работа у него такая.
Если бы с его обращением поменялось всё-всё в его творчестве, и знаменные распевы заменили бы рок-аккорды, а стилизованный кафтан прикрыл бы его татуировки - то он потерял бы всю свою аудиторию. А, значит, и все свои миссионерские возможности.
Вообще одежда миссионера - особый и интересный вопрос. При разговоре о том, “како надлежит одеватися христианину”, я вспоминаю ехидные слова христианского и гонимого писателя третьего века Тертуллиана, которыми он начинает свой трактат “О плаще”: “Мужи карфагеняне! Я радуюсь, что вы столь процветаете во времена, когда имеется приятная возможность обращать внимание на одежду. Ибо это - досуг мира и благополучия. Благо снисходит от властей и от небес”. К одежде Тертуллиана в ту пору цеплялись все: христиан раздражал его плащ (форменная одежда профессиональных философов, которые в ту пору были, конечно, язычниками и врагами Церкви), а обычных язычников - то, что римскую тогу он променял на греческую одежду.
Спустя сто лет такая же проблема возникла у константинопольского философа Ирона, сочетавшего плащ киника и длинные волосы. Чтобы защитить новообратившегося проповедника от нападок, св. Григорий пишет: “Он пристыжает высокомерие киников сходством наружности, а малосмысленность некоторых из наших - новостию одеяния, и доказывает собою, что благочестие состоит не в маловажных вещах, и философия - не в угрюмости, но в твердости души, в чистоте ума. А при сем можно иметь и наружность, какую угодно и обращение с кем угодно” (Слово 25, В похвалу философа Ирона).
В общем, ничего нового в ситуации вокруг Кинчева нет. Это старый, как Церковь, спор о том, какие одеяния уютного и теплого благочестия может и должен снять с себя миссионер ради того, чтобы приблизиться к язычникам.
В старых книгах легко читать советы о том, что с эллинами надлежит быть похожим на эллинов, а с иудеями надо говорить на языке иудеев. Легко восхищаться мудростью древних миссионеров и благоговеть перед иконописными ликами древних юродивых. Ну, а с сегодняшними людьми можно ли быть сегодняшним, с русскими можно ли быть русским, а с молодыми - молодым? Почему подстраиваться под вкусы и мнения стариков - не зазорно, а вот говорить на языке, интересном молодежи, предосудительно? Я еще застал времена, когда церковные иерархи посещали заведомо нецерковные и даже антицерковные собрания и при этом свои речи там корежили так, чтобы услаждать собравшихся язычников-геронтократов. Я имею в виду кремлевские банкеты и приемы по поводу 7 ноября - дня антирусской и антицерковной революции. Я помню, как архиереи и священники кланялись “вечному огню” (уж более антихристианский символ трудно себе представить).
И такие уступки освящены историей Церкви. Константинопольский собор 809 года пояснил, что церковные правила могут не соблюдаться в отношении к императору (по толкованию современного историка это означает, что “непреклонная императорская воля представляет собой форс-мажорное обстоятельство, которое дает право архиерею применить икономию, если речь не идет о покушении на устои веры” (Афиногенов Д. Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис в Византии (784-847). М., 1997, с. 51).
А вот миссионерское наставление константинопольского патриарха Николая Мистика, датируемое 914-916 годами: “Если ты видишь, что они (варвары-язычники) на что-то негодуют, выноси это терпеливо, особенно если ослушники принадлежат к высшему слою народа - не к управляемым, а к тем, кому выпало управлять… Когда речь идет о тех, кто обладает большими возможностями чинить помехи в деле спасения всего народа, необходимо рассчитать, как бы мы, сурово обойдясь с ними, не утратили их, вконец разъярив и полностью восстановив [против себя] и верхи, и низы. У тебя перед глазами множество примеров человеческого поведения: ведь и врач частенько отступает перед тяжестью заболевания, и кормщик не пытается сверх возможного вести свой корабль против течения, и тот, кому вверено командование, зачастую даже против желания подчиняется напору войска”. (Иванов С. А. Византийское миссионерство. М., 2003, с. 189).
Как видим, у нас готовы на многие и многие уступки и компромиссы, когда речь идет о светской власти. А сколько уступок делалось и делается нашей Церковью бабкам и их суевериям! Но сделать шаг навстречу детям отчего-то считается недопустимым!
Это отражение уже многовековой коллизии нашей церковной истории: как относиться к варварам - как к врагам или как к среде миссии и заботы? Тут я на стороне св. Златоуста - “закваска тогда только заквашивает тесто, когда бывает в соприкосновении с мукой и не только прикасается, но и смешивается с ней” (Беседы на Евангелие от Матфея, 46,2).
И здесь трудно не заметить тот разрыв, который прошел между поэтикой, символикой, настроением евангельских притчей о Царстве Божием - и той психологией, что восторжествовала в историческом Православии. Евангельская символика помещает святыню в грязь, надеясь на то, что грязь освятится, а не боясь того, что святыня осквернится. Царство Божие (!!!) уподобляется дрожжам, бросаемым в тесто, зерну, брошенному в землю, кладу, зарытому в поле. На том же самом церковном поле предполагается, что будут расти и сорняки, и пшеница.
То есть нечто святое, чистое, хорошее смешивается с сором, бросается в негожее место, втаптывается в грязь. Но зато эта грязь преобразится. Христос пришел в мир, о котором заранее знал, что большинство в нем будет радоваться его распятию, и лишь численно ничтожное меньшинство расслышит Его слова. А апостолов Христос посылает во враждебный мир “как овец посреди волков”. Все притчи о Царстве Небесном связаны с тем, что что-то светлое входит во тьму, чтобы её преодолеть. “Свет во тьме светит”. Слово Божие пришло к проституткам и гаишникам (так на языке сегодняшних реалий будет звучать церковнославянская и оттого слишком торжественная формула “блудники и мытари”).
А вот в историческом развитии Православия возобладала противоположная тенденция: изымать святыню из мирского контекста, выковыривать свет из тьмы и класть на сохранение в позолоченный ларец. Чем дальше - тем более нарастала потребность спрятать святыню от “нечистых рук”. Все выше становятся иконостасы. Усложняется путь к церковному таинству (чтобы оно было редким, чтобы обязательно соблюсти какую-то технологию, прежде чем к нему прикоснуться). Наиболее ярко эта перемена видна на многих иконах, где святитель держит Евангелие не рукою, а подложив платочек. Оказывается, нельзя прямо прикоснуться к Евангелию, обязательно нужно какое-то посредство. Ты не тот, кто нуждается, чтобы святыня пришла к тебе такому, какой ты есть - грязненькому и чёрненькому. Нет, напротив: ты тот, кто угрожает святыне. Человек воспринимается как источник скверны, святыню надо спасать от него.
Это совершенно разные установки: святыня как лекарство для больных - и больной как угроза для лекарства. Но именно последняя психология господствует в наших приходах.
Спросите сегодня наших прихожан - можно ли священнику ходить в городскую баню, могут ли они представить себе, что апостолы мылись в общих банях. Ответ вы получите возмущенно-отрицательный. Баня - место блудное и скверное, и негоже святыню смешивать с грязью. Но древнейшая церковная история знает о другом восприятии бани - как места встречи с людьми.
Миссионерский дух сменился охранительским. Хорошо, что этот дух появился. Его появление означало - есть что охранять и беречь. Несуществующее сокровище не берегут. Плохо, что этот дух стал почти единственным, нормативно-православным. Плохо, что миссионерское поведение стало расцениваться как нечто дающее повод к подозрениям и возмущениям.
Прежде пространство миссионерства и пространство обычной церковной жизни были четко разделены. В первые 3 века христианской истории была активная миссия, но не было еще сложившегося образа благочестия; всё бурлило в церковной жизни. А затем церковь стала имперской. Миссия не умерла, но она стала вестись вдали от глаз прихожан: вот здесь империя, где всё по уставу и всё благочинно, а за границей империи и на ее окраинах работают миссионеры. Как они работают с язычниками - империя об этом не знает и лишь аплодирует их успехам. И, значит, миссионеры были довольно свободны в выборе средств своей работы. И эта их пастырская миссионерская свобода не смущала собственно православных, воцерковленных людей, перед которыми стояли другие духовные задачи.
Сегодня мы впервые оказались в ситуации, когда церковное и миссионерское пространства переплелись. Тут уже приходится выбирать, и миссионер должен уметь жертвовать своей репутацией в глазах церковных людей ради их неверующих братьев. Есть ли для этого более уместный термин, чем юродство?..
Итак, Кинчев, приняв закваску евангельской веры, погрузился с нею в тесто рок-культуры. Как отнестись к этому? Ильюнина увидела в этом профанацию, либерализм и плюрализм. Мне же кажется, что это весьма традиционный образ действия.
Так действует не либерал, нескованный никакими обязательствами и “условностями”, а человек, плененный встреченной Истиной. “Правота ищет помоста: всё сказать - пусть хоть с костра” (Цветаева). Костер для Кинчева разжигают демжурналисты из “гламурных журналов”. Ну, а нам-то зачем подкладывать в него свои хворостинки?
|













