
Памятник Ф.М. Достоевскому возле храма
святых апостолов Петра и Павла в Тобольске
|
200 лет со дня рождения и 140 лет со дня кончины Ф.М. Достоевского
(Окончание. Начало в выпуске «Сибирской православной газеты» за сентябрь
2021 г.)
Защита достоинства и ценности человеческой личности – основной пафос
произведений писателя. Его новаторство
заключается в том, что «маленькие люди»
(в современном словоупотреблении – так
называемые «простые люди») изображены не
просто в социальной ипостаси. Изнутри показано их самосознание, требующее признания
их человеческой ценности, необходимого
для самоуважения и уважения со стороны
окружающих («Бедные люди», «Записки из
Мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», «Записки из подполья», «Преступление
и наказание», «Подросток» и др.).
Если обратиться к этимологии слова
«достоинство», можно глубже уяснить сущность этого понятия. Корень данной лексемы
находим в древнерусском слове «достой».
В Словаре живого великорусского языка
В.И. Даля приведено следующее толкование:
«Достой – приличие, приличность, сообразность; чего стоит человек или дело, по достоинству своему». (Заметим в скобках, что
исконно русское слово «достой» – корневая
основа фамилии «Достоевский»).
Человеку необходимо, чтобы он был
признан именно как человек, как неповторимая личность. Это одна из основных его
нематериальных потребностей, закрепленная
как абсолютное право в Конституции нашего
государства; как нематериальное благо – в
отраслевых нормах законодательства. Однако задача, «к выполнению которой должны
стремиться все народы и все государства»,
сформулированная в преамбуле Всеобщей
декларации прав человека, а именно: «признание достоинства, присущего всем членам
человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их» как «основа свободы,
справедливости и всеобщего мира» – до
настоящего времени остается не реализованной. Указанный декларативный призыв к
мировому сообществу до сих пор является
всего лишь благим намерением. Во многом
потому, что во главу угла человеческих
взаимосвязей ставятся товарно-денежные
отношения, материальная выгода, расчет,
эгоистический интерес и жажда наживы,
что в свою очередь ведет к подмене Бога
ложными кумирами и бездушными идолами.
Служение «золотому тельцу» неизбежно приводит к звериным установкам типа «глотай
других, пока тебя не проглотили», в итоге – к
безверию, духовно-нравственному одичанию
и вырождению.
Современное прочтение романа «Братья
Карамазовы» – художественного и духовного
завещания Достоевского – показывает, что
его тревожные предчувствия сбываются с
поразительной точностью. Вот одно из многих
текстуальных подтверждений: «не исказился
ли в нем [мире – А.Н.-С.] лик Божий и правда
Его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая
половина существа человеческого отвергнута
вовсе, изгнана с неким торжеством, даже
с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в
последнее время особенно, и что же видим
в этой свободе ихней: одно лишь рабство
и самоубийство! Ибо мир говорит: "Имеешь
потребности, а потому насыщай их, ибо
имеешь права такие же, как у знатнейших
и богатейших людей. Не бойся насыщать
их, но даже приумножай" <…> И что же
выходит из сего права на приумножение
потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных – зависть
и убийство, ибо права-то дали, а средств
насытить потребности еще не указали. <…>
Куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои,
которые сам же навыдумывал? В уединении
он, и какое ему дело до целого. И достигли
того, что вещей накопили больше, а радости
стало меньше».

Аркадий в чайной. Иллюстрация М.Г. Ройтера к
роману Ф.М. Достоевского «Подросток», 1947 г
|
Ни наука, ни социальные реформы не
способны вывести человека и общество из
разъедающего состояния всеобщей уединенности. На бессилие рациональных, прагматических подходов, их духовно-нравственную несостоятельность указывал писатель:
«Никогда люди никакою наукой и никакою
выгодой не сумеют безобидно разделиться в
собственности своей и в правах своих. Все
будет для каждого мало, и все будут роптать,
завидовать и истреблять друг друга».
Достоевский предупреждал о том, что
поглощенность материальными интересами,
подкрепленная лукавыми установлениями
противоречивых «разноглагольных» законов,
рост индивидуализма и катастрофический
распад личности при утрате высших идеалов
и веры в Бога приведут человечество к
антропофагии (людоедству).
Но другой путь – жизнь по Закону
Божьему, по заповедям Христа – вселяет
уверенность в том, что «люди могут быть
прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле».
«Искра Божья» – первостепенное, что
выделяет человека среди других
существ. В то же время «сделаться человеком нельзя разом,
а надо выделаться в человека».
Писатель справедливо полагал,
что для становления личности
одного разума, образованности
недостаточно, поскольку «образованный человек – не всегда
человек честный и что наука
еще не гарантирует в человеке
доблести». Более того – «образование уживается иногда с таким
варварством, с таким цинизмом,
что вам мерзит», – утверждал
Достоевский в «Записках из
Мертвого дома» (1862).
Родителям, наставникам, учителям –
всем тем, кому доверено воспитание юных
душ, – необходимо постоянно заботиться о
самовоспитании и самодисциплине: «Всякий
ревностный и разумный отец знает, например, сколь важно воздерживаться перед
детьми своими в обыденной семейной жизни
от известной, так сказать, халатности семейных отношений, от известной распущенности
их и разнузданности, воздерживать себя от
дурных безобразных привычек, а главное –
от невнимания и пренебрежения к детскому
их мнению о вас самих, к неприятному,
безобразному и комическому впечатлению,
которое может зародиться в них столь часто
при созерцании нашей бесшабашности в семейном быту. Верите ли вы, что ревностный
отец даже должен иногда совсем перевоспитать себя для детей своих».
Достоевский учил уважительному отношению к ребенку, говорил о благотворном
взаимовлиянии детей и взрослых: «Мы не
должны превозноситься над детьми, мы их
хуже. И если мы учим их чему-нибудь, чтобы сделать их лучше, то и они нас делают
лучше нашим соприкосновением с ними. Они
очеловечивают душу нашу».
В серии очерков из «Дневника писателя», который строится в форме свободного
разговора, непосредственного общения с
читателями, Достоевский проводит своего
рода «родительское собрание», выступает как
руководитель своеобразного «педагогического
совета».
Писатель предостерегает родителей от
лености, равнодушия, «ленивой отвычки» от
«исполнения такой первейшей естественной
и высшей гражданской обязанности, как
воспитание собственных детей. <…> Для
них много надо сделать, много потрудиться,
а стало быть, много им пожертвовать из
собственного отъединения и покоя». Процесс
воспитания, с точки зрения Достоевского, –
это непрестанный самоотверженный труд:
«воспитание детей есть труд и долг, для иных
родителей сладкий, несмотря на гнетущие
даже заботы, на слабость средств, на бедность даже, для других же, и даже для очень
многих достаточных родителей, – это самый
гнетущий труд и самый тяжелый долг. Вот
почему и стремятся они откупиться от него
деньгами, если есть деньги».
Отцам семейства, которые утверждают,
что сделали «для детей своих все», а на деле
«лишь откупились от долга и от обязанности
родительской деньгами, а думали, что уже
все совершили», Достоевский напоминает,
что «маленькие детские души требуют беспрерывного и неустанного соприкосновения
с вашими родительскими душами, требуют,
чтоб вы были для них, так сказать, всегда
духовно на горе, как предмет любви, великого нелицемерного уважения и прекрасного
подражания».
Анализируя проблемы и трудности семейного воспитания, писатель уделяет особое
внимание вопросу о наказаниях. Достоевский объясняет их применение небрежением
«слабых, ленивых, но нетерпеливых отцов»,
которые, если деньги не помогают, «прибегают обыкновенно к строгости, к жестокости,
к истязанию, к розге», которая «есть продукт
лени родительской, неизбежный результат
этой лени»: «не разъясню, а прикажу, не
внушу, а заставлю».
Последствия подобных «методов воздействия» губительны для ребенка физически и
духовно: «Каков же результат выходит? Ребенок хитрый, скрытный непременно покорится
и обманет вас, и розга ваша не исправит,
а только развратит его. Ребенка слабого,
трусливого и сердцем нежного – вы забьете.
Наконец, ребенка доброго, простодушного, с
сердцем прямым и открытым – вы сначала
измучаете, а потом ожесточите и потеряете его сердце. Трудно, часто очень трудно
детскому сердцу отрываться от тех, кого
оно любит; но если оно уже оторвется, то в
нем зарождается страшный, неестественно
ранний цинизм, ожесточение, и извращается
чувство справедливости».
Излечить такие психологические травмы
крайне сложно. Ранящие душу ребенка воспоминания предстоит «непременно искоренить,
непременно пересоздать, надо заглушить
их иными, новыми, сильными и святыми
впечатлениями».
Писатель призывает оградить детей от
домашней тирании: «Веря в крепость нашей
семьи, мы не побоимся, если, временами,
будут исторгаемы плевелы, и не испугаемся,
если будет изобличено и преследуемо даже
злоупотребление родительской власти. <…>
Святыня воистину святой семьи так крепка,
что никогда не пошатнется от этого, а только
станет еще святее».
На расхожую реплику о том, что «государство только тогда и крепко, когда оно
держится на крепкой семье», Достоевский
в очерке «Семья и наши святыни. Заключительное словцо об одной юной школе» (1876)
справедливо замечал: «Мы любим святыню
семьи, когда она в самом деле свята, а не
потому только, что на ней крепко стоит государство».
Требовательное, взыскующее отношение
к насущным проблемам «отцов и детей»,
семьи и общества объясняется истовой
позицией Достоевского как христианского
писателя, патриота и гражданина: «Я говорю
от лица общества, государства, отечества. Вы
отцы, они ваши дети, вы современная Россия, они будущая:
что же будет с Россией, если
русские отцы будут уклоняться
от своего гражданского долга
и станут искать уединения или,
лучше сказать, отъединения,
ленивого и цинического, от
общества, народа своего и самых первейших
к ним обязанностей».
Актуальность этих писательских раздумий
не только не снизилась, но еще более возросла в наши дни. Катастрофично современное состояние детской смертности, насилия, жестокого обращения с детьми, вредного
растлевающего влияния на их умы и души.
Сегодня так же необходимо признать, как
признавал Достоевский: «Тяжело деткам в
наш век взрастать, сударь!» В очерке «Земля и дети» (1876) писатель в который раз
настойчиво обращается ко всем тем, кому
вверено попечение о подрастающем поколении: «Я ведь только и хотел лишь о детках,
из-за того вас и обеспокоил. Детки – ведь
это будущее, а любишь ведь только будущее,
а об настоящем-то кто ж будет беспокоиться.
Конечно, не я, и уж наверно не вы. Оттого
и детей любишь больше всего».
Не ограничиваясь средствами убеждения
неумелых наставников, нерадивых попечителей, равнодушных чиновников, Достоевский
обращается к молитве как последнему прибежищу, уповая на помощь Господню: чтобы
«Бог очистил взгляд ваш и просветил вашу
совесть. <…> О, если научитесь любить их
[детей – А.Н.-С.], то, конечно, всего достигнете. Но ведь даже и любовь есть труд, даже и
любви надобно учиться, верите ли вы тому?»
Раздумья о состоянии воспитания, педагогические советы, рекомендации, уроки и
призывы писателя выливаются, наконец, в
слова чистой молитвы – поистине всемирной – за родителей, детей, отечество, за
все человечество как детей единого Отца:
«Итак, да поможет вам Бог в решении вашем
исправить ваш неуспех. Ищите же любви и
копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь
всесильна, что перерождает и нас самих.
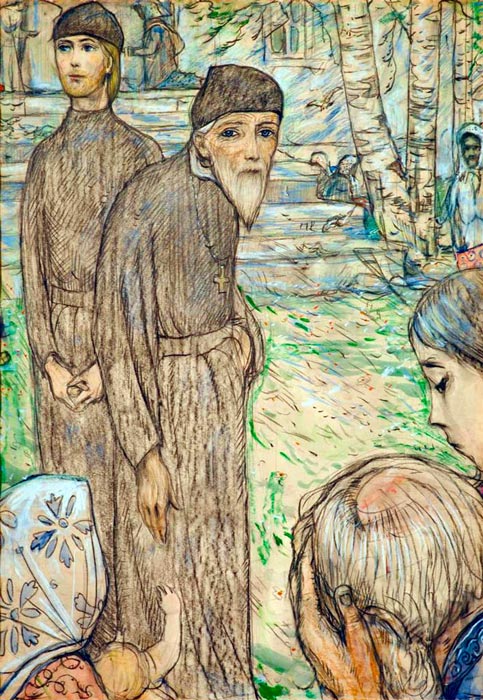
Старец Зосима. Иллюстрация И.С. Глазунова
к роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»
|
Любовью лишь купим сердца детей наших,
а не одним лишь естественным правом над
ними. <…> Вспомните тоже, что лишь для
детей и для их золотых головок Спаситель
наш обещал нам "сократить времена и сроки".
Ради них сократится мучение перерождения
человеческого общества в совершеннейшее.
Да совершится же это совершенство и да
закончатся, наконец, страдания и недоумения
цивилизации нашей!»
Так, писательское, педагогическое и родительское credo Достоевского можно определить как педагогику христианской любви.
«Нельзя воспитать того, кто нас не любит», – говорил Сократ. Прежде надо самим
самоотверженно любить детей – не устает
повторять Достоевский.
Размышляя о христианской заповеди
«возлюби ближнего твоего», скептик Иван
в романе «Братья Карамазовы» утверждает, что любить можно только «дальнего»,
поскольку вблизи люди со своими грехами
и пороками бывают слишком неприглядны.
Однако же «деток можно любить даже и
вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом
(мне, однако же, кажется, что детки никогда
не бывают дурны лицом)». Достоевский свято
убежден, что детей нельзя не любить: «Да
и самая природа из всех обязанностей наших наиболее помогает нам в обязанностях
перед детьми, сделав так, что детей нельзя
не любить. Да и как не любить их? Если уже
перестанем детей любить, то кого же после
того мы сможем полюбить и что станется
тогда с нами самими?»
Современники Достоевского сохранили
воспоминания о его отношении не только
к собственным, но и к чужим детям. Их
судьбы постоянно тревожили сознание и
душу писателя. «Дети – странный народ.
Они снятся и мерещатся», – признавался
он в очерке о маленьком нищем-попрошайке
«Мальчик с ручкой» (1876). По воспоминаниям А.Ф. Кони, Достоевский «безгранично
любил детей и старался своим словом и
нередко делом ограждать их и от насилия,
и от дурного примера».
Герой автобиографического очерка «Детские секреты» (1876) говорит, как он любил
детей, «и именно маленьких крошек, "еще в
ангельском чине". <…> Всего более любил
он гулять в аллеях, куда выносят или выводят детей. Он знакомился с ними, даже
только с годовалыми, и достигал того, что
многие из детей узнавали его, ждали его,
усмехались ему, протягивали ему ручки».
А.Г. Достоевская сделала к этому тексту
следующее примечание: «Федор Михайлович
чрезвычайно любил маленьких детей, и когда ему приходилось, уезжая в Эмс, жить
без семьи, то он очень тосковал по них и
всегда приголубливал чужих деток, играл с
ними, покупал им игрушки. Обо всем этом
Федор Михайлович упоминает и в своих
письмах ко мне».
В «Братьях Карамазовых» выражена та
же заветная мысль об особенной, «еще в
ангельском чине», природе ребенка: «Дети,
пока дети, до семи лет, например, страшно
отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой».
Все это обращает к евангельской заповеди «Будьте как дети». Христос говорит
ученикам: «Если не обратитесь и не будете
как дети, не войдете в Царство Небесное»
(Мф. 18, 3).
Христианско-воспитательное учение
Достоевского получило многообразное воплощение в письмах, дневниках, заметках,
публицистике; наиболее глубокую разработку – в художественном творчестве, во всех
без исключения произведениях. Можно утверждать, что творчество писателя в целом
– своего рода «религиозно-педагогическая
поэма».
Так, в «Братьях Карамазовых» книга
десятая четвертой части «Мальчики» полностью посвящена детям и содержит важные
открытия в области возрастной психологии
и педагогики.
«Подросток» (1875) – в полной мере
«роман воспитания». Главный герой – вступающий в жизнь юноша Аркадий Долгорукий
– порабощен душепагубной идеей «стать
Ротшильдом, стать так же богатым, как
Ротшильд; не просто богатым, а именно как
Ротшильд». Еврейский банкирский семейный
клан Ротшильдов, обладающий несметным
состоянием и утвердившийся через международные банковские сети на вершинах
мировой финансовой власти и могущества,
дьявольски будоражит неокрепшую душу
подростка. Он считает, что «деньги – это
единственный путь, который приводит на
первое место даже ничтожество».
В статье «Дневника писателя» за 1877
год Достоевский утверждал, что «верхушка
евреев воцаряется над человечеством все
сильнее и тверже и стремится дать миру
свой облик и свою суть. <…> Мы говорим о
целом и об идее его [Ротшильда – А.Н.-С.],
мы говорим о жидовстве и об идее жиaiвneie [выделено Достоевским – А.Н.-С.],
охватывающей весь мир». О распространении этой «идеи жидовской», в том числе и
в России, – пророческие провозвестия писателя: «Наступает вполне торжество идей,
перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские,
национальные <…>. Наступает, напротив,
матерьялизм, слепая, плотоядная жажда
личного матерьяльного обеспечения, жажда
личного накопления денег всеми средствами
– вот все, что признано за высшую цель, за
разумное, за свободу». Христианскую идею
«спасения лишь посредством теснейшего
нравственного и братского единения людей»
подменили звериные установки «борьбы за
выживание», безжалостная эксплуатация
«высшими» «низших»: «А безжалостность к
низшим массам, а падение братства, а эксплуатация богатым бедного, – о, конечно,
все это было и прежде и всегда, но – но не
возводилось же на степень высшей правды
и науки, но осуждалось же христианством, а
теперь, напротив, возводится в добродетель.
Стало быть, недаром же все-таки царят там
повсеместно евреи на биржах, недаром они
движут капиталами, недаром же они властители кредита и недаром, повторю это, они же
властители и всей международной политики».
В то же время, по глубочайшему убеждению писателя, «основные нравственные
сокровища духа, в основной сущности по
крайней мере, не зависят от экономической силы». Подросток – герой романа
Достоевского – постепенно освобождается
от маниакальной цели обогащения, достигаемого любыми способами. В стремлении к
праведной жизни в свете христианского идеала происходит воскрешение помертвевшей
души, «восстановление падшего человека».
В черновиках к «Подростку» охарактеризована ситуация, на почве которой вырастают идеи преступной наживы: «Треснули
основы общества под революцией реформ.
Замутилось море. Исчезли и стерлись определения и границы добра и зла. <…> Нынче
честно не проживешь». «Вся идея романа,
– пояснял Достоевский, – это провести, что
теперь беспорядок всеобщий, беспорядок
везде и всюду, в обществе, в делах его, в
руководящих идеях (которых по тому самому
нет), в убеждениях (которых потому тоже
нет), в разложении семейного начала. <…>
Нравственных идей не имеется, вдруг ни
одной не осталось, и, главное, <…> что как
будто их никогда и не было».
Писатель исследовал проблему «случайного семейства» и пришел к выводу, что
«случайность современного русского семейства <…> состоит в утрате современными
отцами всякой общей идеи в отношении к
своим семействам, общей для всех отцов,
связующей их самих между собою, в которую бы они сами верили и научили бы так
верить детей своих, передали бы им эту
веру в жизнь. <…> Самое присутствие этой
общей, связующей общество и семейство
идеи – есть уже начало порядка, то есть
нравственного порядка, конечно, подверженного изменению, прогрессу, поправке,
положим так, – но порядка».
С утратой общей идеи и идеалов также изнутри подрывается лад современной
семьи. Понятия: супружество, семья, отцовство, материнство, детство – духовно
опустошаются, становясь лишь правовыми
категориями и терминами. Отношения в
семье зачастую строятся не на незыблемом
«камне» духовно-нравственного фундамента,
а на зыбучем «песке» формально-юридической связи сторон брачного контракта, гражданско-правового договора, наследственного
права и т.п. Когда иссякает любовь и нет
глубинной духовной опоры, скрепляющей домашний очаг, то неизбежно берет верх холодно-юридический
путь расчетов, эгоистических
выгод. Семья становится ненадежной, зыбкой, «случайным
семейством» – по определению Достоевского.
«Больные» вопросы: «как и чем и кто
виноват?»; как прекратить детские страдания; как «сделать что-то такое, чтобы не
плакало больше дите» – с особенной силой
поставлены в последнем романе «великого
пятикнижия» («Преступление и наказание»,
«Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья
Карамазовы»). Среди его основных идей
– сокровенная мысль: достижение мировой
гармонии «не стоит <…> слезинки хотя бы
одного только <…> замученного ребенка».
Пытаясь найти решение проблемы защиты детей на законодательной основе,
А.Ф. Кони обращал внимание на то, что «с
детьми для юриста связан, помимо святой
задачи их защиты от насилия и нравственной
порчи, еще один из важнейших и труднейших вопросов <…> – о применении к ним
уголовной кары». Знаменитый юрист настоятельно советовал коллегам сверяться
в своих решениях с Достоевским: «Всякий,
кто захочет вдумчиво подвергать детей
карательному исправлению, не раз должен
будет искать совета, разъяснения, поучения
на страницах, написанных их <…> другом
и заступником».
В очерке «Колония малолетних преступников» (1876), созданном после посещения
детской колонии, Достоевский пришел к
выводу о том, что именно «зверски равнодушное» отношение государства и общества к молодому поколению вытравляет в
юных душах «всякие следы человечности
и гражданственности». Писатель нашел
«недостаточными» имеющиеся в арсенале государственно-юридической системы
«средства к переделке порочных душ в непорочные». Чтобы возродить искалеченные
детские души, необходимо «войти в борьбу»
с «ужасными впечатлениями», «мрачными
картинами», «искоренить их и насадить
новые» – «чистые, святые и прекрасные».
Итоги своим размышлениям писатель
подвел в романе «Братья Карамазовы».
Свои чаяния Достоевский выразил устами
«русского инока» старца Зосимы: «Если что
и охраняет общество даже в наше время и
даже самого преступника исправляет и в
другого человека перерождает, то это опятьтаки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести.
<…> Если бы все общество обратилось лишь
в Церковь, то <…> может быть, и вправду
самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и
Церковь, сомнения нет,
<…> сумела бы возвратить отлученного, предупредить замышляющего
и возродить падшего».
Но христианской Церкви государством отводится «как бы некоторый лишь угол, да и
то под надзором, – и
это повсеместно в наше
время в современных
европейских землях».
Путь православной России должен быть иным:
«По русскому же пониманию и упованию надо,
чтобы не Церковь перерождалась в государство,
как из низшего в высший
тип, а, напротив, государство должно кончить тем,
чтобы сподобиться стать единственно лишь
Церковью и ничем иным более».
Писателя нередко называли идеалистом.
Он отвечал: «Я всего только хотел бы, чтоб
все мы стали немного получше. Желание
самое скромное, но, увы, и самое идеальное.
Я неисправимый идеалист; я ищу святынь,
я люблю их, мое сердце их жаждет, потому
что я так создан, что не могу жить без святынь». В «сбивчивое время наше <…> надо
обладать мужеством иметь свое мнение», –
замечал Достоевский. Писатель мужественно
отстаивал христианские идеалы всеми силами своей души и своего творчества.
На закате дней, обобщая все, что было
о нем написано критикой, сказано современниками, отвечая на упреки в утопизме,
Достоевский в записной книжке дал следующее самоопределение: «Я лишь реалист
в высшем смысле, то есть изображаю все
глубины души человеческой».
Мысль о личной нравственной ответственности каждого за состояние собственной души и за судьбы целого мира – одна
из важнейших в системе идей Достоевского:
«всякий человек за всех и за вся виноват,
помимо своих грехов. <…> И воистину верно,
что когда люди эту мысль поймут, то настанет для них Царствие Небесное уже не
в мечте, а в самом деле».
Согласно глубокому убеждению автора
«великого пятикнижия», заниматься социально-политическими преобразованиями
прежде христианского преобразования души
человеческой – все равно что ставить телегу
впереди лошади: «Чтобы переделать мир поновому, надо, чтобы люди сами психически
повернулись на другую дорогу. Раньше, чем
не сделаешься в самом деле всякому братом,
не наступит братства».
Писатель оставил неординарные и нелегкие для исполнения заветы: не подменять
ложными кумирами христианские идеалы и
не отдавать их на поругание; не дать «низложить ту веру, ту религию, из которой вышли
нравственные основания, сделавшие Россию
святой и великой».
За прошедшее время значимость этих
задач не уменьшилась. Жизнь подтверждает
глубокую правоту непреходящих заветных
идей Достоевского.
Его опыт по осмыслению проблем религиозно-нравственного, психолого-педагогического, социально-политического характера
– «Жажда правды и права», как формулировал Достоевский, – по-прежнему требует
серьезного освоения и может сыграть неоценимую роль в духовно-нравственном возрастании наших соотечественников, дабы они не уподобились библейским иудеям, гнавшим
«пророков в своем отечестве».
Впрочем, на взгляд Достоевского, судьба пророков – «дивная и трагическая, потому что мучений тут очень много» – не
сравнима «ни с одним благополучием в
мире». Писатель любил стихотворные строки
Н.П. Огарева:
Я в старой Библии гадал,
И только жаждал и вздыхал,
Чтоб вышла мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка…
Достоевский никогда не расставался с
Евангелием, подаренным ему еще в годы
каторги женами ссыльных декабристов. Он
имел обыкновение в важные моменты своей
жизни раскрывать Новый Завет и читать
«наудачу» верхние строки открывшейся страницы. Так же он поступил перед смертью.
Евангелие, провожая писателя в вечность,
открылось на словах Христа: «Не удерживай,
ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду» (Мф. 3, 15).
Писатель свято верил «в воскресение
реальное, буквальное, личное, и в то, что оно
сбудется на земле». Пасхальность, спасение
и воскресение «мертвых душ» – лейтмотив
художественного мира Достоевского. Его
творческий путь завершился на той же ликующей ноте пасхального попрания смерти
и утверждения вечной жизни во Христе.
Эпилог последнего романа писателя – пасхальный, возрождающий и воскрешающий.
На вопрос своих юных друзей-гимназистов:
«Неужели и взаправду <…> мы все станем
из мертвых, и оживем, и увидим друг друга»
– Алеша Карамазов
убежденно отвечает:
«Непременно восстанем, непременно
увидим и весело,
радостно расскажем
друг другу все, что было».
Устами своего любимого героя Достоевский с отеческой любовью в последний раз
напутствует молодое поколение: «Зачем нам
и делаться дурными, не правда ли, господа?
Будем, во-первых и прежде всего, добры,
потом честны, а потом – не будем никогда
забывать друг об друге. <…> Господа, милые мои господа, будем все великодушны
и смелы. <…> Все вы, господа, милы мне
отныне, всех вас заключу в мое сердце, а
вас прошу заключить и меня в ваше сердце!»
Алла Анатольевна НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук,
профессор,
член Союза писателей России (Москва),
историк литературы
|













